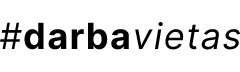Новая киноработа Дависа Симаниса "Молчание Марии" в контексте его предыдущих игровых лент даёт возможность уже весьма определённо говорить о тенденциях режиссёрского взгляда и авторском интересе к вещам, словно бы затуманенным толщей прошедших десятилетий. Симанис старательно обнажает эти вещи, снимая плёнку давности, чтобы через общечеловеческие, гуманистические категории попытаться обнаружить актуализацию рассказываемых историй.
Действительно, взор режиссёра обращён к критическим моментам хроники ХХ века, будь то Первая и Вторая мировые войны или, как в данном случае, – ставший уже нарицательным для советской эпохи 1937 год. Это те самые глобальные геополитические жернова, перемалывающие надежды и чаяния маленьких людей и испытывающие их способность сохранять человеческое достоинство.
Имеется искушение фильм "Молчание Марии" отнести к довольно популярному мировому (преимущественно – голливудскому) кинематографическому течению. Речь идёт о байопиках, лентах, воссоздающих факты биографии выдающихся или просто интересных личностей, так или иначе оставивших свой след в развитии человечества. Здесь же на экране предстаёт лишь короткий заключительный отрезок жизни Марии Лейко – актрисы латышского происхождения, много работавшей в Германии и снимавшейся у таких культовых режиссёров немого кино, как Фридрих Вильгельм Мурнау.
При этом нет никаких флешбэков, способных придать повествованию объём цельного жизненного пути. Напротив, действие движется максимально линейно – череда эпизодов последовательна, хотя, разумеется, Симанис с очевидным удовольствием использует нарративные лакуны, чтобы благодаря разнородности локаций, построения мизансцен, психологической и исторической подоплёки дать зрительскому восприятию пищу для домысливания, для своеобразной даже медитации, для настройки на эмоциональную волну.
1937 год, поезд с разношёрстной публикой направляется в Москву. Одна из пассажирок – звезда немецкого немого кино и театральных подмостков латышка Мария Лейко. Она хочет увидеть свою дочь, выясняет, что та скончалась при родах, забирает внучку Нору и по приглашению устраивается в латышский театр "Скатуве". Тем временем красный террор набирает силу, Мария не хочет участвовать в пропагандистских вояжах по глубинке и прилагает усилия, чтобы покинуть СССР. Но уже поздно…
Драматургический рисунок картины (автор сценария – также Давис Симанис) предлагает, казалось бы, традиционное вовлечение зрителя в переживания главной героини, в то, как меняется её отношение к окружающей действительности, как она "прозревает". Артистическую натуру Марии с её независимым характером подчёркивают эпизоды репетиций и выступлений в составе "Скатуве", о неоднозначности (как и полагается) многогранной личности говорит не самое простое отношение к внучке, своим криком мешающей репетировать. Наконец, концентрации, наивысшей точки её индивидуальные свойства достигают в последние 10–15 минут экранного времени, когда Лейко сталкивается с безжалостной машиной подавления.
Однако кажется, что Симанис взялся за сценарий единолично (правда, в титрах указаны соавторы сценария – Магали Негрони и Табита Рудзате) потому, что ему интересен не столько "голый" сюжет, который был бы состряпан по законам того самого байопика, сколько то, что происходит в "закулисье" (недаром драматургически наиболее сильные сцены фильма – это театральные репетиции, но об этом позже) крупных, двигающих историю событий. Словом, ему, очевидно позиционирующему себя в качестве представителя европейского авторского кино, важно, чтобы показанное "что" находило своё окончательное воплощение в том, "как" это показано. Отсюда – всевозможные вставные кадры, пристальное внимание к изобразительной культуре, отточенность монтажа, в общем, те задачи, которые от сценариста перенимает режиссёр.
Тут стоит отметить исполнительницу заглавной роли. Ольга Шепицка-Слапьюма своей работой предъявляет удивительную пластичность, которая, во-первых, идеально вписывается в ретрофактуру (хотя и здесь автор фильма не стремится задействовать притягательные признаки ретро, как бы ограничивая себя и отстраняясь от всякой развлекательности), во-вторых, очень точно согласуется с глубиной актёрского дарования и широтой артистической души Лейко, в-третьих, работает на выполнение тех установок, которые важны для режиссёра первоочерёдно. И вот в этом "как" Шепицка-Слапьюма находит для своей героини те едва уловимые черты, которые позволяют говорить о достижении духом подлинной свободы вопреки самым ужасным обстоятельствам.
Надо помнить, что "Молчание Марии" – чёрно-белая картина. При этом изображение преимущественно затемнённое. В отказе от цвета вновь нет никакого желания угодить массовому спросу на покрытую патиной красивую старину (это не тот случай, когда чёрно-белое ретро можно смаковать, как выдержанный коньяк). Скорее, здесь лишний раз обозначается уже упомянутая толща десятилетий. Обозначается для того, чтобы успешно проникать в суть происходившего почти 90 лет назад. В ту суть, что при должном осмыслении всегда оказывается актуальной.
Как этого добивается Давис Симанис? Похоже, не последнюю роль играет продуманная до мелочей операторская работа (оператор – Андрейс Рудзатс). Так, в одном из начальных эпизодов с участием врача (Михаил Карасиков далеко не первый раз появляется у Симаниса) камера, скрываясь за нерезкими деталями интерьера, стыдливо подсматривает за разговором решающих судьбу маленькой Норы больших людей. Точнее – не подсматривает, а чуть робко, вскользь выхватывает фигуры из универсума социалистического мироустройства, намекая на то, что в этом универсуме (и не только в нём!) мимоходные жесты одного могут иметь решающее значение для другого.
Но, конечно, куда значимее общий подход к тому, что и как видит оператор через видоискатель и что вместе с ним в итоге видит зритель. Превалирующе бóльшая часть кадров снята "дышащей" камерой с рук. Лёгкая вибрация картинки едва заметна, однако она совершенно чётко привносит в происходящее тревожность, повышает градус неопределённости и предвестия печального конца. Когда в такую нервическую визуальную атмосферу вклиниваются редкие, но очень уместные статичные планы, сквозь полотно экрана будто проступает метафизическая данность.
Действительно, снятые со штатива неподвижной камерой кадры словно фиксируют точки непреодолимой силы, ключевые для рассказа о Марии Лейко, её коллегах по театру "Скатуве" и оставшихся за скобками видимого миллионах других принявших на себя бремя властного насилия людей. В такие моменты, в те "здесь и сейчас", незыблемость власти в оптике Дависа Симаниса уже наделяется надматериальными характеристиками. Это также задаёт не вполне реалистичную интонацию всего происходящего с латышами в Москве, обнаруживает некий сдвиг в рутине и обыденности (что гораздо интереснее, чем говорить об абсурде машинерии доносов и расстрелов напрямую).
На такой сдвиг работают и многочисленные зеркала в интерьерах, отражения в которых как бы множат персонажей, при этом придавая их бытованию на этой земле некоторую зыбкость. Удивительно (хотя если разбираться в творческой реализации поставленных задач, то логично), что предельного воплощения метафизический дискурс достигает в коротком максимально высветленном кадре, где громко плачущего младенца взвешивают на фоне огромного портрета Сталина. Эта яркая вспышка, преобразующая будничное действо в апогей творящегося преступления, просвечивает своими иррациональными лучами всё полотно кинокартины.
Поэтому искомая аутентичность обретается не в наглядности воссозданного художниками, костюмерами и реквизиторами антуража эпохи, а в первую очередь в том пространстве "между строк", что приоткрывается отмеченным сдвигом. Так что максимальная линейность действия, описанная в четвёртом абзаце данного текста, в финальных эпизодах слегка нарушается без ущерба для художественной целостности фильма. Речь идёт о своего рода видениях Марии в энкавэдэшных застенках. Измученная пытками (но не подписавшая бумагу с оговором своих товарищей по труппе), она представляет себя в элегантном танце, её руки подобны лёгким крыльям, её дух, несмотря на телесные мучения и близость физической расправы, вольно воспаряет.
Небольшое эгоистичное отступление. Я – критик благожелательный, всегда стараюсь искать в просматриваемых кинолентах лучшее или как минимум интересное. Но при этом, как мне самому кажется, – и принципиальный. Поэтому если вижу то, что не соответствует моим представлениям о кинематографической природе (не забывая, что судить о фильме можно только в рамках им самим выстраиваемой структуры), не могу безмолвствовать.
Так вот, "Молчание Марии" – при всех формальных изысках и расслаивании основного нарратива – кино не экспериментальное. А значит, тут никак не обойтись без диалогов и соответствующего поведения актёров в сценах, способствующих развитию фабулы и кристаллизующих внятность рассказываемой истории. Однако именно в этих сценах (где ощущается, что режиссёру приходится мириться с конвенциональностью их использования) мне слышатся и видятся, может, не столь уж множественные, но бросающиеся в глаза неточности.
Словом, как мне кажется, в отдельных определяющих вектор рассказа – от начальной до конечной точки – эпизодах, увы, не хватает достоверности. В них совокупность артикуляционных и выразительных средств исполнителей не дотягивает до того уровня правдоподобия, которое позволяет всевозможным условностям кинопроизводства переходить в искомое качество, коррелирующее с безусловной зрительской вовлечённостью. Поэтому, в частности, романтическая и мелодраматическая линии, отданные в угоду принципам реализации пресловутого байопика, кажутся здесь рудиментарными.
Сразу же следует оговориться, что Давис Симанис как автор силён и чрезвычайно убедителен как раз на близкой ему по режиссёрскому менталитету территории – в изучении пограничных состояний, возникающих как следствие метафизического препарирования реальности. К трансгрессивному опыту отсылают, например, лезвие бритвы, подложенной актрисой-завистницей в сценическую фату Марии Лейко, и стекающая по её лицу кровь – такое прочтение гораздо интереснее, чем никак не отыгрываемое далее проявление закулисных козней. Или – прорвавшаяся на заснеженной улице канализация (естественно, этот план снят неподвижной камерой).
К проявлениям задействованной в фильме трансгрессивности (разумеется, сопоставимой с вынесенной за рамки повествования гибелью персонажей, с которыми за полтора часа свыкаешься; а ведь смерть – важнейший трансгрессивный акт) можно отнести даже ледоход на Москве-реке. Не говоря уже о нередких проявлениях приземлённой физиологии, таких как опьянение, экстаз, рвота, мочеиспускание. Наивысшей точки преодоление бытийных границ достигает в эпизоде дня рождения наркома Ежова. В нём размашистая карнавальность в духе позднего Эйзенштейна резко приближает к интерпретативной точке, с которой в творении Дависа Симаниса можно рассмотреть сущностные аспекты, идущие вразрез с сугубо историческим контекстом. Не соответствует упрощённой трактовке и возникающая как следствие проникновения в трансгрессивное поле мощь репетиций латышского театра в Москве.
На мой взгляд, именно эти многочисленные вкрапления сугубо кинематографических усилий по постижению сложности и многообразия жизни во всей её полноте – полноте, раскрывающейся в первую очередь через маргинальные, отвергаемые приличиями, тёмные и порой принципиально непостижимые стороны бытия, – а не взятая в финале нота героической патетики, придают фильму уникальное очарование.
Так что "Молчание Марии" – не только и не столько о трагическом исходе яркой судьбы Марии Лейко. Драматизм жизненных перипетий отдельно взятого человека (судя по общему подходу режиссёра, всегда помещённого в контекст "минут роковых") на примере конкретной исторической личности – для Симаниса только повод дерзко и пристально взглянуть на механизмы экзистенциальных разломов, чтобы самим этим жестом извлечь из молчания и забытья голос этической неуспокоенности.